Художественное описание разнообразных трапез — довольно частое явление в литературе. Но некоторые писатели идут дальше, представляя читателю сам процесс приготовления различных блюд и напитков, давая достаточно подробные описания рецептов. Используя цитаты из таких литературных произведений в качестве руководства, можно составить настоящее меню для обеда, что мы и попытались сделать.
1 Писатель Александр Куприн
(1870 – 1938) по своей натуре был кутила и ловелас, любивший погусарить и  не терпевший рутину повседневной жизни. Он понимал толк в еде и выпивке и приобрел репутацию гурмана.
не терпевший рутину повседневной жизни. Он понимал толк в еде и выпивке и приобрел репутацию гурмана.
В рассказе “На покое” , действие которого происходит в “Убежище для престарелых немощных артистов имени Алексея Ниловича Овсянникова ”, один из героев вспоминает придуманный им рецепт салата:
П еред обедом Стаканыч готовил себе салат из свеклы, огурцов и прованского масла. Все эти припасы принес ему Тихон, друживший со старым суфлером. Лидин-Байдаров жадно следил за стряпней Стаканыча и разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге.
Стоял я тогда в «Европейской», - говорил он, не отрывая глаз от рук суфлера. - Повар, понимаешь, француз, шесть тысяч жалованья в год. Там ведь на Урале, когда наедут золотопромышленники, такие кутежи идут… миллионами пахнет!..
Все вы врете, актер Байдаров, - вставил, прожевывая говядину, Михаленко.
Убирайтесь к черту! Можете спросить кого угодно в Екатеринбурге, вам всякий подтвердит… Вот я этого француза и научил. Потом весь город нарочно ездил в гостиницу пробовать. Так и в меню стояло: салат а-ля Лидин-Байдаров. Понимаешь: положить груздочков солененьких, нарезать тоненько крымское яблоко и один помидорчик и накрошить туда головку лука, картофеля вареного, свеклы и огурчиков. Потом все это, понимаешь, смешать, посолить, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахаром. И к этому еще подается в соуснике растопленное малороссийское сало, знаешь, чтобы в нем шкварки плавали и шипели… Уд-ди-вительная вещь! - прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия ”. А. И. Куприн, «На покое» (1902)
2. Детектив “Клоунада” (трилогия “Эскапада”, “Клоунада”, “Кавалькада”) американского писателя Уолтера Саттертуэйта повествует о приключениях в начале XX века двух сотрудников агентства Пинкертона. Это не только стилизация под американский “крутой детектив”, но и литературная игра, полная аллюций и цитат. Недаром среди действующих лиц — Гертруда Стайн и Эрнест Хемингуэй. А еще детектив содержит множество “кулинарных” отступлений – дань прошлому автора, долгие годы проработавшему в барах и ресторанах.
Приведенный ниже отрывок дает один из рецептов главного блюда французской кухни - Coq au vin (петух в вине ). Несмотря на наличие в названия слова “петух”, блюдо готовится, как правило, из курицы.

К
огда мы закончим, я на час пойду домой. Моя жена приготовит coq au vin (петух в винном соусе) у меня уже слюнки текут.
- Она берет красное вино? - спросил Ледок.
- Нет, - ответил инспектор, поглядывая на него. - Она берет белое. Рислинг.
- А! А как насчет lardon? - Он повернулся ко мне. - Ломтиков сала, - пояснил он.
- Нет, - сказал инспектор. - Она обжаривает курицу на сале, затем убирает ее со сковороды. Добавлять морковь, лук-шалот и немного чеснока. Разумеется, все мелко нарезанное.
- Да, разумеется, - согласился Ледок.
- Все это румянит, снова кладет курицу на сковородку и добавляет равное количество рислинга и крепкого куриного бульона.
- А, понятно. Бульон. А специи еще добавляет?
- После того, как она делает соус гуще с помощью куриного желтка, смешанного с небольшим количеством сливок, она добавляет лимонный сок и немного сливового бренди.
- Сливовое бренди. Очень интересно. - Ледок задумчиво кивнул. - Спасибо.
- Пожалуйста, - сказал инспектор”
. Уолтер Саттертуэйт, “Клоунада”(1998)
3. Комиссар королевской полиции Николя Ле Флок — герой исторических детективов Жана-Франсуа Паро , действие которых происходит во времена Людовика XV. На сегодняшний день вышло 11 книг писателя, но особую популярность Николя Ле Флок получил благодаря одноименному сериалу, начатому в 2008 году и выдержавшему уже 6 сезонов. Описание приключений комиссара – сыщика-профессионала и кулинара-любителя — чередуются с подробнейшим описанием блюд и рецептов их приготовления. Жан Франсуа Паро , писатель и историк, использовал для своих детективов подлинные рецепты XVIII века. Приведенный ниже отрывок содержит рецепт приготовления экзотического на ту пору картофеля.

П
рибор, хлеб и бутылка сидра стояли на столе. Устроившись, он налил стакан сидра и наполнил тарелку снедью. При виде вкусных овощей в нежном белом соусе, на поверхности которого плавали кусочки мелко нарезанной зелени петрушки и шнитт-лука, у него потекли слюнки. Катрина, делясь с ним рецептом приготовления этого восхитительного блюда, не забывала напоминать, что у плиты нельзя проявлять нетерпение, коли желаешь получить достойный результат.
Прежде всего, необходимо отобрать несколько равных по размеру картофелин, или «толстеньких», как величала картофельные клубни Катрина. Затем помыть их, обиходить и аккуратненько снять кожуру, стараясь придать им округлую, без выступов, форму. Нарезать кусочками свиное сало, бросить его в глубокую сковороду и тушить на медленном огне, пока сало не отдаст весь свой сок, а после вынуть его из сковороды, постаравшись не допустить, чтобы оно начало подгорать. В горячий жир, объясняла кухарка, опустить картофелины и обжарить до появления золотистой корочки. Не забыть добавить парочку неочищенных зубчиков чеснока, щепотку тмина и лавровый лист. Постепенно овощи покроются хрустящей корочкой. Продолжать обжаривать, заботливо переворачивая, еще какое-то время, дабы середина овоща стала мягкой, и только тогда, а никак не ранее, посыпать сверху доброй ложкой муки и уверенными движениями пассеровать муку вместе с овощами, а отпассеровав, залить половиной бутылки бургундского вина. Ну и, разумеется, посолить и поперчить, а потом оставить томиться на медленном огне еще добрых две четверти часа. Когда соус уварится, он станет нежным и бархатистым. Легкий и текучий, он нежно обнимет тающие во рту рассыпчатые картофелины в поджаристой корочке. Хорошей кухни без любви не бывает, повторяла Катрина.
» Жан-Франсуа Паро, «Загадка улицы Блан-Манто»(2000)
4. В романе Юлиана Семенова
“
Экспансия - I. По лезвию бритвы”
, в котором рассказывается о работе  советского разведчика Штирлица в послевоенный период, есть один необычный рецепт кофе. Его оригинальность заключается в наличии такого неожиданного ингредиента как … чеснок. Этот старинный рецепт имеет загадочное название “Секрет старого мавра
”.
советского разведчика Штирлица в послевоенный период, есть один необычный рецепт кофе. Его оригинальность заключается в наличии такого неожиданного ингредиента как … чеснок. Этот старинный рецепт имеет загадочное название “Секрет старого мавра
”.
Д
жекобс отошел к камину, там у него стояла кофемолка и маленькая электроплита с медными турочками. Споро и красиво, как-то по-колдовски, он начал делать кофе, объясняя при этом:
- В Анкаре мне подарили рецепт, он сказочен. Вместо сахара - ложка меда, очень жидкого, желательно липового, четверть дольки чеснока, это связывает воедино смысл кофе и меда, и, главное, не давать кипеть.
Все то, что закипело, лишено смысла. Ведь и люди, перенесшие избыточные перегрузки - физические и моральные, - теряют себя, не находите?
” Юлиан Семенов » Экспансия - I. По лезвию бритвы «(1984)
5. Достойным завершением трапезы будет бокал коньяка. По правилам современного этикета коньяк следует пить только в качестве диджестива , т.е. в конце еды. К нему идеально подходит пикантная закуска “Николашка ”.
Столь странное название связано с именем последнего русского царя Николая II, который якобы изобрел эту закуску. А как ее готовить, можно узнать из фрагмента фантастического романа Сергея Лукьяненко, насыщенного кулинарными описаниями.

В начале он принялся готовить закуску. Истолок в кофейной мельничке сахар до состояния легкой пудры, высыпал в блюдце. Бросил в мельницу десяток кофейных зерен и превратил их в пыль, негодную даже для «эспрессо». Смешал с сахаром. Теперь оставалось лишь нарезать тонкими ломтиками лимон и посыпать полученной смесью, соорудив знаменитую «николашку», замечательную закуску под коньяк, главный вклад последнего русского царя в кулинарию… Сполоснул под краном и обдал кипятком лимон, нарезал тонкими кругами, посыпал сахарно-кофейной пудрой. Некоторые эстеты рекомендовали добавить к гармонии кисло-сладко-горького вкуса еще и соленую ноту – крошечной щепоткой соли или маленькой порцией икры. Но это Мартину всегда казалось излишеством и чревоугодием. Вот теперь приготовления к одиночной пьянке были завершены”. Сергей Лукьяненко, “Спектр” (2002).
1. Застолья и его роль в развитии сюжета.
2. Еда и застолье в фольклоре.
3. Застолье в произведениях А. С. Пушкина.
4. Роль застолья в произведениях И. А. Гончарова.
5. Застолье в произведениях Н. В. Гоголя.
Уже в древности существовала традиция описания пира, образчики которой можно найти в произведениях Гомера, Овидия, Петрония, Лукиана и других известных авторов античности. Например, в «Илиаде» Гомера пир предстает как момент наслаждения героев мирным отдыхом после ожесточенной битвы. Как правило, пир предваряет жертвоприношение богам, иными словами, боги как бы становятся участниками пира смертных. Отношение к пиру как к священнодействию проявляется и в другом обычае древних — проксении, особых узах взаимопомощи, связывающих хозяина и гостя, людей, вместе вкусивших пищу.
В русском фольклоре также просматривается особая роль пира — это счастливое завершение испытаний, торжество героя над кознями врагов. Во многих былинах и сказках повествование завершается картиной веселого пира.
Однако нередко в мифах и преданиях на пиру случаются происшествия, которые становятся завязкой дальнейших событий. Например, история войны троянцев и ахейцев начинается со свадебного пира героя Пелея и морской нимфы Фетиды, на котором три богини — Гера, Афина и Афродита — затеяли спор, кто из них самая красивая. На пиру женихов Пенелопы, нагло распоряжающихся в доме Одиссея, вернувшийся царь Итаки побеждает в единоборстве нищего Ира и объявляет о своем желании попытаться выстрелить из своего собственного лука, хранящегося во дворце. По совету морского царя гусляр Садко затевает на пиру спор с купцами Новгорода, в результате чего он из бедняка становится богатым человеком. Также и само повествование о каких-либо значимых событиях может разворачиваться на пиру. Так, Одиссей рассказывает о своих странствиях на пиру во дворце царя феаков.
В русской народной сказке «Гуси-лебеди» раскрывается древняя традиция застолья как своего рода братства, предложения дружбы и помощи. Отказываясь съесть яблоко, пирожок, кисель, девочка тем самым отказывается от уз «хозяин — гость», поэтому и не получает помощи. Лишь приняв угощение, то есть проявив доверие к той стороне, к которой она обращается, девочка получает помощь. Подобным же образом и мышка в избе Бабы-Яги завязывает узы дружбы с девочкой: получив от нее кашку, мышь дает ей совет и оказывает реальную помощь, откликаясь на голос Бабы-Яги, пока девочка убегает е братцем.
Однако уже в древности наряду с сохранением возвышенной традиции осмысления пира произошла и деградация образа застолья. Например, в сатирическом произведении древнегреческого писателя Лукиана «Пир, или Лапифы» свадебный пир оканчивается безобразной дракой приглашенных на семейное торжество философов. Упоминание мифического народа лапифов в названии этого произведения не случайно — по греческому мифу, побоище между лапифами и кентаврами произошло на свадьбе царя лапифов, невесту которого попытались похитить пьяные гости, полулюди, полукони.
Другим примером деградации значения пира как предложения дружбы или мирного отдыха может служить русская народная сказка «Лиса и Журавль», герои которой предлагают друг другу угощение, но так, что гость не может его съесть.
Нужно отметить, что и для античности, и для творчества многих писателей последующих эпох представляло огромный интерес и само описание блюд, а не только тех событий, связанных с пиром.
Здесь литература словно сближается с живописью: «словесные натюрморты» дразнят воображение не меньше, чем зримые образы, нанесенные художником на полотно. Выше обозначенные традиции описания пира получили развитие в произведениях многих русских писателей. Например, в «Евгении Онегине» А. С. Пушкин, рассказывая о любовных переживаниях героини, попутно с юмором описывает праздничный обед в честь именин Татьяны:
Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастию, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и бланманже
Цимлянское несут уже...
Шутливый тон автора, конечно, не вяжется с древним представлением о праздничном застолье как о совместном пире богов и людей. Кроме того, именно на этом обеде дает трещину дружба Онегина и Ленского. Таким образом, в романе Пушкина продолжается традиция пира — начала вражды, а не мирного веселья. Мотивы «антипира» усиливаются в «Моцарте и Сальери» и «Пире во время чумы». В первом из этих произведений трагедия зависти и обманутого доверия в сцене застолья достигает своей кульминации, в то время как значение пира как проявления открытости, веселья и дружеских чувств исчезает совершенно. Моцарт, хотя и доверяет Сальери, не испытывает радости, так как его томит зловещее предчувствие. Душа Сальери отравлена завистью и преступным замыслом, то есть и он чужд веселья. Что же касается «Пира во время чумы», то в самом этом названии заключено противоречие: пир — это радость, чума — это смерть и ужас. Веселье героев «Пира во время чумы» — это парадоксальное проявление отчаяния, а вовсе не радости.
В романе А. С. Гончарова «Обломов» застолью, еде уделяется очень большое внимание. И это не случайно — еще в доме родителей главного героя «главною заботою», смыслом и целью существования были «кухня и обед». Для семьи Обломовых «забота о пище» являлась священнодействием. Они относились к обеду почти так же серьезно и возвышенно, как древние греки к жертвоприношению богам и последующей трапезе. Но древние герои постоянно находились в действии — они странствовали и сражались, и пиры чаще всего были в их жизни лишь краткой передышкой, не более: женихи Пенелопы, которые только и делают, что пируют, гибнут от руки Одиссея. А чем занят Илья Ильич Обломов? Для него и обычная прогулка почти что эпический подвиг... А пиршество, состоящее из многочисленных блюд — это, по древней традиции, завершение дела, отдых от труда. При отсутствии активности пир превращается в обжорство, которое и приводит к болезни, ставшей причиной ранней смерти Обломова.
В поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» отношение к еде и застолью выступает в качестве характеристики помещиков. За обедом проявляются некоторые яркие особенности их характеров, а также в процессе совместной трапезы Чичиков пытается найти подход к владельцам «мертвых» душ. Но это не священные узы, навеки связывавшие хозяина и гостя в древнем мире, а лишь сделка, которая выгодна обеим сторонам.
Итак, в литературе мы найдем различные образы пира — от возвышенного образа приобщения к застолью богов до предательского отравления сотрапезника. Несомненно одно — описание пиршества и связанных с ним событий играет большую роль во многих произведениях и основано на богатой традиции, складывавшейся на протяжении не одного столетия.
На первый взгляд, странный выбор книжки для этого журнала, не так ли? Тематика рецептов тоже может показаться неожиданной. Сама я не веган и даже не вегетарианец и пока не вижу никаких к тому предпосылок. Но практически каждый раз, когда случается ввести в своё меню какое-то новое, типично вегетарианское блюдо, я получаю от него столько удовольствия, что невольно удивляюсь, почему не готовлю такое чаще:)
Что же касается книги, то этот роман Скарлетт Томас заслуживает внимания уже сам по себе (несмотря на дурацкое название). Я взялась за его чтение в рамках некого «флешмоба» и совершенно не ждала, что мне понравится. Сейчас вспоминаю: сюжет довольно дурацкий, финал несколько разочаровал, но всё же повествование быстро меня захватило и подарило какое-то количество приятных часов, так что потраченного времени я не жалею. Заодно обогатилась новыми познаниями из области математики (с ней у меня проблемы со школьной скамьи) и криптоанализа: книга обильно сдобрена занимательными фактами из обеих областей и, пожалуй, этим наиболее интересна. Однако при чём же здесь веганство?
На самом деле, читая любую книгу, я уже автоматически отмечаю для себя, что едят герои, - это что-то сродни профессиональной деформации:) Естественно, большая часть подобных заметок не находит никакого продолжения на моей собственной кухне, и с книжкой Скарлетт Томас, вероятнее всего, получилось бы так же. Но, окончив чтение, я обнаружила в конце книги ряд любопытных приложений, и среди них - конкретный рецепт из меню героев, причем рецепт пирога - пришлось срочно печь! Ну а уж за пирогом подтянулось и всё остальное. У меня в итоге не все рецепты получились строго веганскими, но при необходимости их легко скорректировать соответствующим образом.
- Ну, и что у нас на ужин? - интересуюсь я.
- У нас… Хм-м… Липкие пирожки с луком, обжаренная красная капуста с яблоком и соусом из красного вина, плюс пюре из картошки, петрушки и сельдерея. Была фасоль с жареной картошкой, но я решил шикануть. Вместо пудинга - лимонный пирог c листьями мяты. Кто-то из шеф-поваров сказал, что этот пирог называется «Пусть едят пирожные». Что-то из репертуара Марии Антуанетты. Думаю, они тут слегка скучают. А еще я тебе принес зеленого «порохового» чая.
()
- January 29th, 2013 , 02:35 pm
У которых есть, что есть, - те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, -
Значит, нам благодарить остается небо!
Роберт Бёрнс появился на свет в шотландской деревушке Аллоуэй 25 января 1759 года. Жизнь его оказалась не очень долгой, но плодотворной: за свои 37 лет он успел не только стать отцом дюжины детей от разных матерей (на данный момент в мире проживает свыше шестисот его потомков), но и оставить по себе уникальное литературное наследие. Сегодня Бёрнс - главный национальный поэт Шотландии, поэт поистине народный, а его день рождения - 25 января - отмечается как второй по значимости государственный праздник. Связанные с ним торжества обычно называют Burns Supper или Burns Night. И они актуальны не только на родине поэта - по всему миру общества любителей Бёрнса в этот день (или примерно в этих числах) устраивают торжественные ужины, проходящие по определённому сценарию. Не обходится без звуков волынки, чтения стихов Бёрнса и исполнения его песен, но главный пункт программы всё же гастрономический - торжественный вынос хаггиса, чтение стихотворения («Ода хаггису») и ритуальное вскрытие этого знаменитого шотландского пудинга (естественно, с последующим поеданием). В этом году и у нас получился самый настоящий Burns Supper. Естественно, с хаггисом, приготовленным своими руками, и другими традиционными угощениями.
()
- February 17th, 2011 , 10:48 pm
«Когда мы устроились, было еще рано, и Джордж сказал, что, раз у нас так много времени, нам представляется великолепный случай устроить шикарный, вкусный ужин. Он обещал показать нам, что можно сделать на реке в смысле стряпни, и предложил приготовить из овощей, холодного мяса и всевозможных остатков ирландское рагу».
Есть несколько книг, к которым я неизменно обращаюсь, когда мне хочется вспомнить, что такое настоящий юмор и шутки, заставляющие искренне улыбаться во все 32 зуба или смеяться в голос. «Трое в одной лодке, не считая собаки» - безусловно, из их числа. Для экстренной ликвидации дурного настроения достаточно найти в компьютере соответствующую аудиокнижку и запустить проигрывание практически с любого места. Эффект гарантирован - проверено неоднократно. И даже сейчас, стуча по клавиатуре и просто вспоминая об этом, я не могу заставить себя не улыбаться самым дурацким образом. Чудеса, да и только!
Если же рассматривать бессмертную повесть Джерома с кулинарной точки зрения, то и тут приходится включить аналогичный подход. Потому что центральное блюдо этой книги просто невозможно готовить в дурном настроении и с набитой всякими проблемами головой. Волей-неволей начинаешь порхать по кухне, глупо хихикая.
А ещё описание ирландского рагу у Джерома нравится мне тем, что, каким бы ни получился результат и каких бы глупостей я ни наделала в процессе приготовления, всё можно списать на соответствие литературному первоисточнику:)) Это одна из очень удобных с данной точки зрения книг (знаю и другие такие, и до них тоже с радостью доберусь). В общем, на всякий случай напоминаю то, что написано в самом верхнем посте: этот журнал - больше про литературу, чем про кулинарию. И на этот раз я и не буду пытаться делать всё правильно в кулинарном плане - на то оно и ирландское рагу! Если вам претит такой подход - не обессудьте, но я вас предупредила.
«Под конец Монморенси, который проявлял большой интерес ко всей этой процедуре, вдруг куда-то ушел с серьезным и задумчивым видом. Через несколько минут он возвратился, неся в зубах дохлую водяную крысу. Очевидно, он намеревался предложить ее как свой вклад в общую трапезу. Было ли это издевкой или искренним желанием помочь - мне неизвестно.
У нас возник спор, стоит ли пускать крысу в дело. Гаррис сказал, почему бы и нет, если смешать ее со всем остальным, каждая мелочь может пригодиться. Но Джордж сослался на прецедент: он никогда не слышал, чтобы в ирландское рагу клали водяных крыс, и предпочитает воздержаться от опытов.
Гаррис сказал:
- Если никогда не испытывать ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо? Такие люди, как ты, тормозят прогресс человечества. Вспомни о немце, который первым сделал сосиски».
()
- January 8th, 2011 , 03:46 pm
«На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман».
Мне очень хотелось опубликовать этот пост ещё недели две назад - 24-25 декабря, но, к сожалению, не получилось. Ну, не дожидаться же теперь следующего года, правильно? Лучше в следующий раз приготовим что-нибудь ещё. Так или иначе, хочется поздравить всех с праздниками: католиков - с прошедшим католическим Рождеством, православных - с православным и всех в целом - с наступившим Новым годом. Пусть он принесёт вам побольше светлых моментов и получится содержательным и вкусным во всех смыслах этого слова.
Вообще, должна сказать, что мне импонируют многие «чужие» праздники. Я их почти никогда не отмечаю (тем более по всем правилам), но люблю наблюдать, как это делают другие, и радуюсь вместе с ними. Так и тут: я не католичка, но мне нравится следить за тем, как весь католический мир погружается в предрождественскую кутерьму. Конечно, у нас есть своё Рождество, но это совсем другой праздник, который к тому же в наши дни не является таким массовым. Католический же вариант, напротив, в связи с широкой популярностью отчасти утратил свой религиозный подтекст.
Кстати, у Диккенса Рождество тоже предстаёт отнюдь не религиозной датой: духи Рождества - это не какие-нибудь ангелы, а вполне языческие по своей сути создания. И этот праздник учит не поклонению какому-то конкретному божеству, а простым человеческим добродетелям, не зависящим от вероисповедания, - доброте, человеколюбию, отзывчивости и состраданию. Этим он мне и нравится. И этим мне нравится Рождество в подаче Диккенса.
Приведенная выше цитата, конечно, описывает утрированную картину, и я по понятным причинам не берусь такое соорудить:) (Хотя, кстати, в русской литературе описания застолий в подобном стиле встречаются сплошь и рядом, и я пока понятия не имею, с какой стороны к ним подступаться.) Нам же сегодня предстоит бедняцкий рождественский ужин, но даже он может оставить равнодушным разве что совершенно пресытившегося человека. Потому что тут будет гусь, которого бедняки видят едва ли не раз в году - по случаю великого праздника, рождественский пудинг, который по иным поводам и не готовится, а также простые жареные каштаны, которые сами по себе не являются каким-то деликатесом, но отлично дополняют общую картину.

()
Тема обжорства издавна встречается в литературных произведениях. Но так как чревоугодие всегда считалось смертным грехом, то созданные в них образы «обжор» зачастую представляются в сатирическом плане. Правда, в зависимости от литературного жанра, тональность в отношении к литературным персонажам варьируется от откровенного осуждения «угодников Мамоны» до гротеска и подтрунивания над гастрономическими слабостями героев. Едят все, но гурманом становится не каждый. Описание пристрастий к еде удачно используется авторами для характеристики отдельных персонажей, а также для погружения читателей в культуру и быт того времени.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ с его «Вечерами на хуторе близ Диканьки», где вареники со сметаной сами лезут в рот, что вроде бы символизирует обжорство, но тут же, - в предисловии – подаются такие-вот «десерты»:
«Зато уж как пожалуйте в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, забожусь, лучшего вы не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет во всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если бы вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть.
Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объедение, да и полно».

«Вечера на хуторе близ Диканьки»
А вот отрывок из повести «Старосветские помещики».
К «старосветским помещикам» обращена «не поражающая сила сарказма», а «возносящая сила лиризма». Великая вера Н.В. Гоголя в прекрасное в человеке позволила ему найти любовь в обыденной жизни, в заботе друг о друге любящих людей.
Переданное писателем желание Пульхерии Ивановны попотчевать супруга, порадовать его любимыми блюдами, трепетные отношения между старосветскими помещиками составляет лирическое начало повести. Благодаря этому в воображении читателей складывается картина мирной, размеренной жизни провинциального дворянского поместья и его обитателей.


«Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе…
«Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?
«Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков», - отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.
За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдыхаться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду.
«Мне кажется, как будто это каша» - говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, «немного пригорела, вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна? «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней».
«Пожалуй»,- говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: «опробуем, как оно будет».
После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз».
«Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине»,- говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, «Бывает что и красный, да нехороший». На арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся гулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной.
Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной, или сам отправлялся к ней и говорил: «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?».
«Чего же бы такого?» - говорила Пульхерия Ивановна, разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?».
«И то добре», - отвечал Афанасий Иванович.
«Или может быть, вы съели бы киселику?».
«И то хорошо», - отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо.
Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Петрович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того чтобы было теплее, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал.
Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?».
«Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», - говорил Афанасий Петрович.
«Может быть вы чего-нибудь съели, Афанасий Петрович?».
«Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! Впрочем, чего ж бы такого съесть?».
«Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами».
«Пожалуй, разве только попробовать», говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Теперь так как будто сделалось легче».
С любовью приготовленные блюда, хлебосольство, неторопливые разговоры делают жизнь старичков простой и ясной, помогают противостоять невзгодам.
Старосветский быт становится бытием, потому что, потому что его пронизывает любовь героев друг к другу, к жизни, пусть Гоголь и называет её «привычкой». Однако он говорит «Такая глубокая, такая сокрушительная жалость», - о чувстве Пульхерии Ивановны к Афанасию Ивановичу. «Такая долгая, такая жаркая печаль» - о чувстве старика после смерти жены.
В «Мертвых душах» еда много говорит о персонажах. В главе, посвященной визиту Чичикова к Собакевичу, в последнем подчеркиваются черты богатырства (хотя и с иронией) через многие п портретные детали, перечисление блюд, поданных на обед, и их количество.

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (обед у Собакевича)
«Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгами и ножками. – Эдакой няни, -продолжал он, обратившись к Чичикову, - вы не будете есть в городе, там вам чёрт знает, что подадут. Это всё выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они и воображают, что и с русским желудком сладят! У меня не так. У меня свинина – всю свинью давай на стол. Баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует». Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до последней косточки».
Русский желудок для него равен широкой русской душе, это предмет его гордости. Конечно, Гоголь смеется над своим героем: обжорство Собакевича, безусловно, чревоугодие и грех, но многостраничные, хлебосольные описания застолий в «Старосветских помещиках» - скорее, гурманство. В чем, кстати, автор тайком и признавался: «Дед мой (Царство ему Небесное! Чтоб ему на том свете елись одни только буханцы до маковники в меду!) умел чудно рассказывать».

У великого АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА культ еды прослеживался уже в ранних рассказах. Вы только почитайте его рассказ «Сирена» до обеда – это же лучшее средство для повышения аппетита:
«Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, - сказал секретарь и продолжил полушепотом: - Ну – с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их нарезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение» Но налимья печенка – это трагедия!
М-да… - согласился почетный мировой, жмуря глаза. – Для закуски хороши также, того… душоные белые грибы…». (Впрочем, по молодости Антон Палыч проявлял юношеский максимализм, утверждая, что «Человечество думало-думало, а все равно лучше соленого огурца под рюмку водки ничего не придумало»). Даже упоминаемая им селедочка, - одна из наиболее часто изображаемых закусок в русской живописи.

Кузьма Петров-Водкин «Селедка». 1918. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Зинаида Серебрякова «Селедка и лимон». 1920-1922
А вот как А.П. Чехов в рассказе «О бренности» описывает трапезу своего героя.
«Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, рейнвейн. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (три рубля 40 копеек за фунт), свежая семга и прочее. Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Но вот, наконец, появилась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя обжечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет! Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился…Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку, крякнул, раскрыл рот…Но тут его хватил апоплексический удар». Поневоле задумаешься о чувстве меры!
Кажется, как ни крути, к гурманам относятся великие писатели Пушкин, Гоголь, Чехов и другие виртуозы гастрономического описания вкусной еды… А как быть с поэтом эпохи Просвещения – Гавриилом Державиным, который еще прежде них умел давать смачные, без лишнего лоска, определения: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны» …

Гавриил Романович Державин

А.С. Пушкин
В первой главе романа «Евгений Онегин» мы находим радостное описание обеда настоящего денди в модном французском ресторане Талона на Невском проспекте, куда спешит главный герой:
«Вошел и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфели, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет.
И Страсбурга пирог нетленный.
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым…».
Обед этот можно назвать роскошным и неслучайно. Это касается и трюфелей – душистых грибов, которые растут под землей и обходятся гурманам очень дорого. На столе» roast-beef окровавленный» - блюдо из лучшей говядины, которая жарилась на вертеле и подавалась к столу не вполне прожаренной, с кровью. Страсбургский пирог – это паштет из гусиной печени, который привозился в Россию в консервированном виде. Из Бельгии доставлялся вкусный лимбургский сыр, мягкий, с острым запахом. Эти роскошные блюда Онегин запивает «Вином кометы» - французским шампанским урожая 1811 года. В тот год в небе появилась комета, которую стали считать предшественником нашествия Наполеона на Россию. «Вино кометы» особенно ценилось знатоками. Изысканную трапезу пушкинского героя завершает «золотой ананас».
Совершенно иную картину мы видим в том же романе «Евгений Онегин», но уже на обеде в поместье Лариных.
Вместо «Вина кометы» на столе Цимлянское шампанское. Вместо roast-beef – жаркое. Вместо Страсбургского пирога – «жирный пирог». Пушкин, описывая эти два застолья, был всегда точен в описании гастрономических деталей.
Вот как поэт не без легкой иронии живописует кушанья простой деревенской помещичьей русской кухни:
«У них на масленице жирной
Водились русские блины…
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам…
Простая русская семья,
К гостям усердие большое.
…Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой».
Иногда «гастрономические советы» Пушкин дает в небольших шутливых стихотворениях. Вот что рекомендует поэт своему другу Сергею Александровичу Соболевскому:
«Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели.
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан шабли.
Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленький кусок».
Как человек светский, Пушкин был искушен в заморской кухне, однако предпочитал всё же кушанья отечественные. Среди них особой любовью поэта пользовались «пожарские» котлеты:
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке» - писал А.С. Пушкин С.А. Соболевскому. 1828. Село Михайловское.

И.А. Гончаров
И.А. Гончаров в романе «Обломов»:
«Об обеде совещались всем домом… Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу… Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Индейки и цыплята, назначаемые к именинами другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, мочений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

М.А. Булгаков
М.А. БУЛГАКОВ умел красиво и поэтично писать. Даже такие мелочи, как описание борща, описаны настолько аппетитно, что слюнки текут, а «похмельный» стол доля Лиходеева? А вспомним, как описан прием пищи в квартире у профессора Преображенского в «Собачьем сердце»…
… Эх-хо-хо…Да, было, было!..Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка, это милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой?
А яйца-кокотт с шампиньонами пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас, неотложные литературные дела держат в городе, - на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!...

… Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно – он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело…

Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафетничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки… и в это время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, - мозговая кость…

… - Я люблю сидеть низко, - проговорил артист, - с низкого не так опасно падать. Да, итак мы остановились на осетрине? Голубчик мой! Свежесть, свежесть и свежесть, вот что должно быть девизом всякого буфетчика. Да вот, не угодно ли отведать…
Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азазелло выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку.
-Покорнейше…я…
- Нет, нет, попробуйте!
Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сразу понял, что жует что-то действительно очень свежее и, главное, необыкновенно вкусное…

… До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой… миг, и появилось на специально пододвинутым отдельном столике запотевшее серебряное ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им:
- Извините! На минутку! Лично пригляжу за филейчиками…

Еда, на первый взгляд, явление будничное, повседневное, в общем-то, проза жизни, но под пером великих мастеров – поэтов и писателей - превращается в поэзию, а мы – читатели – погружаемся в мир быта и культуры нашего народа разных эпох.
А. Волосков. “За чайным столом”
В описаниях застолья русская литература буквально сближается с живописью – «словесные натюрморты» великих писателей захватывают воображение не меньше, чем натюрморты реальные, нанесенные знаменитыми художниками на холст или картон, и одни другим не уступают в яркости и «вкусности».
Начнём с Пушкина – Евгений Онегин посещает ресторан « Talon » (Петербург, Невский проспект) :
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный*
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
*) Особым способом приготовленный паштет из утиной печени, трюфелей и рябчиков в тонкой хрустящей оболочке из теста.
После ресторана Онегин сразу помчался в театр:
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
В «Отрывках из путешествий Онегина» упоминается еще один ресторан – одесский ресторан Отона и его знаменитые устрицы:
Что устрицы? Пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
Шум, споры – легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счет*
Меж тем невидимо растёт.
*) Устрицы в 1-й половине 19-го века были весьма дорогим удовольствием – стоимость сотни устриц доходила в ресторане до 100 рублей (например, армейский штабс-капитан зарабатывал тогда эти самые 100 рублей в месяц, а 1 кг свежего мяса стоил 40-50 коп.).
Иван Андреевич Крылов:
Прославленный русский баснописец был наделён и многими другими талантами: прекрасно знал пять иностранных языков; превосходно играл на скрипке; имел могучее здоровье – до самых холодов купался в Неве, смаху проламывая молодой лёд огромным телом, массой далеко за 100 кг. Но главной его радостью была еда. Прямо скажем, Иван Андреевич Крылов был редкостным, просто чудовищным обжорой. Как отозвался однажды о Крылове П. Вяземский, ему легче было пережить смерть близкого человека, чем пропустить обед. Вот воспоминание современника: «За один обед, которому Иван Андреевич посвящал не менее трёх часов, он поглощал немыслимое количество пищи: три тарелки ухи, два блюда пирожков-расстегаев, несколько телячьих отбивных, половину жареной индейки, на десерт – большой горшок гурьевской каши».* Пушкин, с которого мы начали наш рассказ, любил Крылова и называл его «преоригинальной тушей».
*) Каша , приготовляемая из манной крупы на молоке с добавлением орехов (грецких , фундука, миндаля ), сухофруктов, сливочных пенок.
Н.В. Гоголь – «Мертвые души» (Чичиков послушал, как хозяин поместья Петр Петрович Петух заказывал своему повару «решительный обед»):
– Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там эдакого… Да чтобы с одного боку она, понимаешь – зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то пропеки ее так, чтобы рассыпалась, чтобы ее всю проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал во рту – как снег бы растаяла… Да сделай ты мне свиной сычуг*. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да подвась мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли там еще какого коренья?..
*) Свиной желудок с начинкой из молотых свиных субпродуктов (печень, почки, язык, уши), разных овощей и специй, запеченный в духовке; помещённый внутрь кусочек льда в духовке превращается в пар и делает сычуг пористым, мягким и нежным.
И. А. Гончаров – «Обломов»:
Об обеде совещались целым домом… Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу… Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!.. Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами, гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!
А.П. Чехов – из рассказа «Сирена» (дело происходит в совещательной комнате суда, где все собрались для вынесения решения):
– Ну-с, когда вы входите в дом, – начал секретарь суда, – то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Секретарь суда изобразил на своем сладком лице блаженство. – Как только выпили, сейчас же закусить нужно.
– Послушайте, – сказал председатель, поднимая глаза на секретаря, – говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.
– Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, – сказал секретарь и продолжал полушёпотом: – Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом… объедение! Но налимья печенка – это трагедия!
– М-да… – согласился почетный мировой судья, жмуря глаза. – Для закуски хороши также, того… душоные белые грибы…
– Да, да, да… с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух… даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.
Ещё Чехов – из рассказа «О бренности»:
Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины… Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами… Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной… Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился… Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… Но тут его хватил апоплексический удар.
Л. Н. Толстой – «Анна Каренина»:
Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. К ним тотчас подлетел официант татарской внешности.
– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.
– А! устрицы.
Степан Аркадьич задумался.
– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!
– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.
– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?
– Вчера получены-с.
– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.
– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями…
– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…».
М. Булгаков – «Мастер и Маргарита» (Фока, в беседе с поэтом Амвросием, не желая есть нынешние «отварные порционные судачки», вспоминает возле входа в ресторан Грибоедова «у чугунной решетки»,* как это было до Октябрьской революции):
– Эх-хо-хо… Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой помните? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, – на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что нынче ваши судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики помните? Шипящий в горле нарзан?!..
*) Здесь у Булгакова описано реальное московское здание, Тверской б-р 25, он же «дом Герцена», ныне там расположен Литературный институт им. Горького.
Исаак Бабель – «Одесские рассказы»:
… И вот теперь… мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков,
жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху
,
в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря? Всё благороднейшее из нашей контрабанды, всё, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома
,
маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима
.
Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря…
Подборка и комментарии Михаила Краснянского






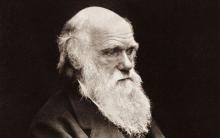




Бертрис смолл - бьянка, благочестивая невеста
Сознание дзен, сознание начинающего
Белгравия автор джулиан феллоуз
Афанасий Никитин «Хождение за три моря Хождение за три моря афанасия никитина
Воспоминания о плене Из послевоенных записей0