Антисоветские действия международного империализма начались с первых же дней Советской власти. В ноябре 1917 г. по инициативе США была объявлена экономическая блокада Советской России. В декабре 1917 г. шли переговоры между США, Англией, Францией и Японией об организации интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке.
Одновременно Маньчжурия была превращена в плацдарм борьбы против Советской России.
Победа социалистической революции на побережье Тихого океана напугала империалистов, они боялись, что искры революционного пожара могут перекинуться на их владения в Корее, Китае и Юго-Восточной Азии. Первые попытки военного вторжения относятся к ноябрю 1917 г., когда во Владивостокский порт самовольно вошел американский крейсер "Бруклин". Месяц спустя здесь появились японский крейсер "Ивами" и английский крейсер "Суффолк". Представители США, Японии, Англии и Франции вступили в контакты с деятелями свергнутого Временного правительства, что и активизировало контрреволюционные организации Сибири и Дальнего Востока. Значительную роль в организации белогвардейского движения сыграли иностранные консульства, представители иностранных, главным образом японских и американских, фирм и контор. В феврале 1918 г. Красная Армия предотвратила, а также подавила контрреволюционные мятежи в Омске, Ново николаевске, в марте - в Благовещенске-на- Амуре. 19 марта 1918 г. был подавлен контрреволюционный мятеж на Камчатке (село Сероглазка вблизи Петропавловска-Камчатско- го), к организации которого были причастны японцы.
Интервенты всячески пытались подорвать экономику молодой Советской Республики, вопреки нормам международного права вмешиваясь в ее внутренние дела и стремясь сорвать национализацию промышленности и транспорта. В мае 1918 г. английские империалисты в союзе с китайскими милитаристами захватили в портах Китая русские пароходы, обслуживавшие северо-восточный район Тихого океана, в том числе Камчатку и Чукотку. Они поддерживали действия русской буржуазии, распродававшей иностранцам национальное имущество. Так, амурскими судовладельцами было продано 50 пароходов, часть которых была куплена представителем американских морских сил адмиралом Найтом, несмотря на очевидную незаконность сделки.
С весны 1918 г. иностранные интервенты развернули необъявленную войну против Советской России. 5 апреля 1918 г. во Владивостоке высадился десант англичан и японцев. Под покровительством Японии, США, Франции и Англии в Маньчжурии формировались белогвардейские отряды Семенова, Калмыкова и Орлова. В Даурии действовал отряд помощника Семенова - барона Унгерна. Террор белогвардейцев вызвал решительный отпор местного населения.
Партизанские отряды и советские воинские части под командованием С. Лазо в июле 1918 г. нанесли серьезный удар белогвардейцам и интервентам, отбросив их в Маньчжурию.
Действия японских интервентов на Дальнем Востоке отличались жестокостью. Зимой и весной 1918-1919 гг. карательные отряды японцев за поддержку партизан только в Амурской области сожгли около 30 сел и деревень. В селе Белоярово японские солдаты согнали на лед реки Зеи все мужское население, от малолетних детей до стариков, и расстреляли их из пулеметов. Особо известно злодеяние японских интервентов в селе Ивановка Амурской области. 22 марта 1919 г. японская артиллерия обстреляла Ивановку, фактически уничтожив село. Было сожжено 196 домов и убито 257 ее жителей, при этом мужчины были загнаны в сараи и сожжены заживо.
Хозяйничанье интервентов вызвало широкое партизанское движение.
В конце января 1920 г. партизанские соединения вошли в Уссурийск и Владивосток, в феврале - в Благовещенск, 29 февраля был взят Николаевск-на-Амуре.
Однако в городах еще оставались японские войска. В марте 1920 г. в Николаевске-на-Амуре, нарушив заключенное с партизанскими отрядами соглашение, японские войска внезапно напали на них. Провокационные действия японской военщины вызвали протесты трудящихся как в Советской России, так и в Японии. Однако японцы, голословно обвиняя партизан в "николаевском инциденте", 4-5 апреля 1920 г. организовали новое нападение на партизан во Владивостоке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Хабаровске и других городах и селах Приморья. В эти дни погибло более 5 тыс. человек. Были зверски убиты - сожжены в паровозной топке - члены Приморского Военного Совета С. Лазо, А. Луцкий, В. Сибирцев.
К началу 1920 г. правительства Антанты были вынуждены объявить об эвакуации своих войск. В сложной международной обстановке Советская Россия пошла на компромисс: в апреле 1920 г. было создано буферное государство - Дальневосточная республика (ДВР).
Однако военные действия продолжались. Разгром белогвардейцев под Спасском и Волочаевкой заставил японцев ускорить эвакуацию своих войск. 25 октября 1922 г. Народно-революционная армия ДВР, завершившая освобождение Приморья от интервентов и белогвардейцев, вступила во Владивосток. 14 ноября 1922 г. было ликвидировано буферное государство и Дальний Восток воссоединен с РСФСР.
Японские и американские империалисты и белогвардейцы продолжали грабить природные богатства Камчатки и Чукотки. Выбитые с советского Дальнего Востока японские интервенты продолжали держать свои войска на Северном Сахалине до 1925 г., до подписания советско-японской конвенции, предусматривавшей их немедленный вывод.
». С первыми известиями об Октябрьской революции японское правительство стало разрабатывать планы захвата русских дальневосточных территорий.
3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Великобритании, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами. Не имея достаточно войск, Великобритания и Франция обратились с просьбой о помощи к США. Тем временем 12 января 1918 года японский крейсер «Ивами» вошёл в бухту Владивостока для «защиты интересов и жизни проживающих на российской земле японских подданных», при этом утверждалось, что японское правительство не намерено «вмешиваться в вопрос о политическом устройстве России». Несколько дней спустя во Владивосток прибыли военные корабли США и Китая .
Интервенция
14 мая 1920 года командующий японскими войсками на Дальнем Востоке генерал Юи Мицуэ объявил о согласии вести переговоры с ДВР. Японцы предложили создать западнее Читы нейтральную зону, которая бы отделила части НРА от японских и семёновских войск. 24 мая на станции Гонгота начались официальные переговоры ДВР и японского командования. Как предварительное условие было принято, что «НРА и экспедиционные силы японской империи не вели и не ведут войну, случаи столкновения, вызванные взаимным непониманием, должны рассматриваться как печальные недоразумения». Делегация ДВР стремилась увязать заключение перемирия с тремя условиями:
Японцы отказались от эвакуации войск, ссылаясь на угрозу Корее и Маньчжурии, потребовали признать Семёнова за равноправную сторону при переговорах об объединении дальневосточных областных властей, и стремились ограничиться лишь соглашением с НРА, чтобы разгромить восточно-забайкальских партизан. В начале июня переговоры прервались из-за отказа делегации ДВР признать «правительство Российской Восточной окраины» как равноправную сторону на будущих переговорах об объединении областных правительств. Тем не менее общая ситуация складывалась невыгодным для белых войск образом, и 3 июля японское командование опубликовало декларацию об эвакуации своих войск из Забайкалья. 10 июля были возобновлены переговоры между японским командованием и ДВР, и 17 июля было заключено Гонготское соглашение . К 15 октябрю японские войска покинули территорию Забайкалья. США с тревогой следили за действиями Японии. 9 февраля 1921 года американский консул во Владивостоке опубликовал декларацию правительства США, в которой осудил нарушение территориальной целостности России. 26 мая 1921 года во Владивостоке произошёл военный переворот, в результате которого к власти пришло правительство Меркулова , опирающееся на японские войска. 31 мая 1921 года США снова направили Японии ноту с предупреждением, что они не признают никаких притязаний и прав, являющихся следствием японской оккупации Сибири. Интервенция стоила Японии больших расходов (около 600 миллионов иен), а когда гражданская война фактически завершилась победой большевиков - надежды на колониальную эксплуатацию российского Дальнего Востока растаяли, что сделало дальнейшую дорогостоящую экспедицию бессмысленной. Оппозиционная партия Кэнсэйкай, представлявшая торгово-промышленные круги, неоднократно выступала за вывод японских войск из Сибири. Кроме того, противниками продолжения интервенции были представители японского флота, выступавшие за перераспределение средств в пользу военно-морских сил (что было невозможно при сохранении огромного экспедиционного корпуса в России); они пользовались поддержкой со стороны японских судостроительных компаний, имевших значительное влияние на правительство и прессу. На состоявшейся в конце 1921 - начале 1922 годов Вашингтонской конференции Япония оказалась фактически в международной изоляции из-за своей дальневосточной политики. В условиях внешнего и внутреннего давления администрация Като Томосабуро была вынуждена вывести японские войска из Приморья. 25 октября 1922 года японские войска покинули Владивосток. Японская интервенция нанесла огромный ущерб хозяйству русского Дальнего Востока; кроме того, так и остался нерешённым вопрос о судьбе части золотого запаса России , переданного белогвардейцами Японии «на хранение». |
23 августа (5 сентября по новому стилю) 1905 г. в Портсмуте (США) был подписан мирный договор. Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила ей южную часть Сахалина, права на Ляондунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, Южно-Маньчжурскую железную дорогу. Так завершилась . Но противостояние на этом не закончилось.
Япония просто выжидала благоприятного момента, чтобы отторгнуть у России Дальний Восток. Хотя на короткое время в русско-японских отношениях, казалось, возникло некоторое «потепление»: в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. Россия и Япония стали формальными союзниками. Впрочем, Япония выступила в войне на стороне Антанты с единственной целью – поживиться за счет германской сферы влияния в Китае и колоний на островах Тихого океана.
После их захвата осенью 1914 г., в ходе которого японцы потеряли 2 тыс. человек, активное участие Японии в мировой войне закончилось. На обращения западных союзников с просьбой послать японский экспедиционный корпус в Европу, японское правительство отвечало, что «ее климат не подходит для японских солдат».
3 июля 1916 г. Россия заключила с Японией секретное соглашение о разделе сфер влияния в Китае, где был пункт, декларирующий военный союз между двумя странами: «В случае, если третья держава объявит войну одной из договаривающихся сторон, другая сторона по первому же требованию своего союзника должна прийти на помощь» . При этом японцы намекали, что готовы пойти и на большее, если им уступят Северный Сахалин, но русское правительство отказалось даже обсуждать подобный вариант.
Что касается настроений в Русской армии, то там отношение к новому «союзнику» было вполне определенным: события русско-японской войны были еще свежи в памяти, и все понимали, что с Японией придется воевать в не слишком далеком будущем. Вот как описывал отправку Русского экспедиционного корпуса во Францию через порт Даолян Р.Я. Малиновский: «На причале построились русские войска. Тут же два оркестра – наш и японский. Сначала исполнили японский гимн, а потом «Боже царя храни». На высокой палубе в парадной форме появился командир 1-го Особого полка полковник Ничволодов. Вокруг него – группа японских и генералов. Всюду сверкали золотом эполеты и сияли ордена. – Братцы! Русские солдаты, богатыри земли русской! – начал свою речь полковник Ничволодов. – Вы должны знать, что город Дальний построен русскими людьми, они принесли сюда, на азиатские берега, русский дух, русский нрав, гуманность и культуру, чего, кстати, не скажешь о новоявленных «аборигенах» этой земли. …Японские генералы, очевидно, не понимали смысла слов русского полковника и покровительственно скалили зубы.
А тот продолжал: – Мы сейчас покидаем эти берега. Перед нами дальний путь, но мы никогда не забудем, что здесь каждый камень положен руками русских людей, и рано или поздно захватчики уберутся отсюда. Да здравствует наша победа! Ура, братцы! Загремело громогласное «ура», перекатываясь над толпой русских солдат, сгрудившихся на пристани, на палубах и корме парохода. Все кричали «ура» что есть мочи, одобряя тем самым короткую речь русского полковника. Оркестры исполняли «Боже царя храни». Господа генералы и японские офицеры вытянулись в струнку и держали под козырек, а японские солдаты замерли по команде «Смирно» и держали «на караул». Многие из японцев, не понимая, что происходит, по команде кричали «банзай», троекратно повторяя этот клич… Можно было вообразить гнев японских генералов и , когда они получат перевод речи русского полковника.
Временный и «противоестественный» характер союза России и Японии был очевиден для русского общественного сознания, тем более что японцы не скрывали своих территориальных притязаний и готовились их реализовать при первом удобном случае. Благоприятный для японских экспансионистских планов в отношении России момент наступил в связи с государственным переворотом в Петрограде в октябре 1917 г. Сразу же было заключено соглашение между США и Японией «по проблемам» дальневосточных владений бывшей Российской Империи. Страна Восходящего Солнца с энтузиазмом восприняла идею США и Антанты о расчленении России и создании марионеточных режимов на ее окраинах для использования их в качестве полуколоний.
Японские газеты с циничной откровенностью писали, что «независимость Сибири представляла бы особый интерес для Японии», и намечали границы будущего марионеточного государства – к востоку от Байкала со столицей в Благовещенске или Хабаровске36 . Предлогом для высадки японского десанта с военных кораблей, прибывших во Владивосток еще в январе 1918 г., послужил инцидент, когда в ночь на 5 апреля 1918 г. «неизвестные злоумышленники» совершили вооруженное нападение с целью ограбления владивостокского отделения японской торговой конторы «Исидо», в ходе которого были убиты два гражданина Японии. Тотчас эскадра Антанты с внешнего рейда Владивостока переместилась к причалам его внутренней гавани – бухты Золотой Рог. 5 апреля под прикрытием корабельных орудий, нацеленных на городские кварталы, высадились две роты японских пехотинцев и полурота английской морской пехоты, которые заняли важные объекты в порту и городе. 6 апреля десантировался отряд из 250 японских моряков, захвативший остров Русский с береговыми укреплениями, артиллерийскими батареями, военными складами и казармами. Адмирал Хирохару Като обратился к населению с воззванием, в котором извещал, что Япония берет на себя «охрану общественного порядка в целях обеспечения личной безопасности иностранных граждан», в первую очередь подданных японского императора.
Через полгода японских подданных на российском Дальнем Востоке «защищало» уже свыше 70 тыс. японских солдат и . Во время Гражданской войны и интервенции в 1918–1922 гг. японцы оккупировали Приамурье, Приморье, Забайкалье и Северный Сахалин, заняли Владивосток. На этих направлениях было сосредоточено более половины имевшихся тогда у Японии войск, то есть 11 дивизий из 21. Численность японских интервентов намного превосходила силы западных держав, высадившихся на Дальнем Востоке. Только с августа 1918 по октябрь 1919 г. Япония ввела на территорию дальневосточного края 120 тыс. человек, в то время, как общая численность интервентов в этом регионе в начале 1919 г. составила 150 тыс. Это объяснялось решимостью японского правительства «пойти на любые жертвы, только бы не опоздать к дележу территории России, которое произойдет после вмешательства США, Англии и Франции» 40 . Именно японцы стали ударной силой интервентов на Дальнем Востоке. И если англо-американские и другие силы Антанты совместно с Японией участвовали в интервенции в период с 1918 по март 1920 г., после чего были выведены с советских территорий, то сама Япония сохраняла там свое присутствие дольше всех – до осени 1922 г.
Таким образом, период с апреля 1920 по октябрь 1922 г. был полностью самостоятельным японским этапом интервенции41 . Как позднее напомнит об этом факте И.В.Сталин, «Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к Советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, – вновь напала на нашу страну … и четыре года терзала наш народ, грабила Советский Дальний Восток» 42 . Японцы поддерживали Белое движение на Дальнем Востоке и в Сибири, стараясь при этом сохранять выгодную для них расстановку сил: активно помогали атаману Забайкальского казачьего войска Г.М. Семенову и даже спровоцировали его конфликт с адмиралом А.В. Колчаком, посчитав, что деятельность последнего на посту Верховного правителя России может повредить дальневосточным интересам Страны Восходящего Солнца.
Интересно в этой связи мнение самого Колчака об интервентах. 14 октября 1919 г. генерал Болдырев записал в своем дневнике о встрече с адмиралом: «Среди многих посетителей был адмирал Колчак, только что прибывший с Дальнего Востока, который, кстати сказать, он считает потерянным если не навсегда, то, по крайней мере, очень надолго. По мнению адмирала, на Дальнем Востоке две коалиции: англо-французская – доброжелательная и японо-американская – враждебная, причем притязания Америки весьма крупные, а Япония не брезгует ничем. Одним словом, экономического завоевание Дальнего Востока идет полным темпом» . За время своего хозяйничанья на Дальнем Востоке японцы вывезли немало пушнины, древесины, рыбы, ценностей, захваченных на складах порта Владивосток и других городов. Поживились они и за счет золотого запаса России, захваченного в Казани мятежным Чехословацким корпусом, а затем оказавшегося в распоряжении правительства Колчака, которое расплачивалось им со странами Антанты за поставку оружия и снаряжения. Так, на долю Японии пришлось 2672 пуда золота.
Присутствие японского экспедиционного корпуса подогревало накал Гражданской войны и рост партизанского движения на Дальнем Востоке. Бесцеремонное и наглое поведение захватчиков возбуждало ненависть и озлобление местного населения. Красные партизаны Приамурья и Приморья устраивали засады и нападения на вражеские гарнизоны. Упорное сопротивление местных жителей интервентам привело к жестоким карательным акциям со стороны японских войск, пытавшихся такими мерами утверждать свое господство на оккупированной территории: сожжение за «неповиновение» целых деревень и показательные массовые расстрелы непокорных с целью запугивания местного населения вошли в повсеместную практику. Например, в январе 1919 г. японские солдаты дотла сожгли деревню Сохатино, а в феврале деревню Ивановку.
Вот как описывал эту акцию репортер японской газеты «Урадзио ниппо» Ямаути: «Деревню Ивановка окружили. 60-70 дворов, из которых она состояла, были полностью сожжены, а ее жители, включая женщин и детей (всего 300 человек) – схвачены. Некоторые пытались укрыться в своих домах. И тогда эти дома поджигались вместе с находившимися в них людьми». То, что действовали японцы с особой жестокостью, отмечали даже их союзники-американцы. Так, в донесении одного американского офицера описывается казнь арестованных местных жителей, схваченных японским отрядом 27 июля 1919 г. на железнодорожной станции Свиагино, охранявшейся американцами: «Пятеро русских были приведены к могилам, вырытым в окрестностях железнодорожной станции; им были завязаны глаза и приказано встать на колени у края могилы со связанными назад руками. Два японских офицера, сняв верхнюю одежду и обнажив сабли, начали рубить жертвы, направляя удары сзади шеи, и, в то время как каждая из жертв падала в могилу, от трех до пяти японских солдат добивали ее штыками, испуская крики радости.
Двое были сразу обезглавлены ударами сабель; остальные были, по-видимому живы, так как наброшенная на них земля шевелилась». В феврале-марте 1920 г. все войска интервентов, кроме японских, покинули Владивосток, передав «представительство и охрану интересов союзников» на русском Дальнем Востоке и в Забайкалье Стране Восходящего Солнца. При этом Япония формально заявила о своем «нейтралитете». Однако в начале апреля японцы начали карательные действия против населения Владивостока и других городов, произвели нападения на революционные войска и организации Приморья. В качестве повода был использован так называемый Николаевский инцидент в марте 1920 г., во время которого в городе Николаевске-на-Амуре партизаны под командование анархиста Я.И.Тряпицина, расстрелянного вскоре по приговору народного суда, уничтожили более 850 захваченных в плен японских военнослужащих и гражданских лиц46 . Воспользовавшись этим, 31 марта 1920 г. японское правительство отказалось от эвакуации своих войск, которые 4–5 апреля внезапно нарушили40 договоренность о перемирии и приступили к «акции возмездия», в результате которой за несколько дней уничтожили во Владивостоке, Спасске, Никольске Уссурийском и окрестных селениях около 7 тыс. человек.
Сохранились фотографии японских интервентов, «с улыбками позирующих рядом с отрезанными головами и замученными телами русских людей» 48 . В продолжение «акции» и под предлогом защиты служащих японской нефтяной компании «Хокусинкай» японские войска в июне 1920 г. оккупировали Северный Сахалин. 3 июля была опубликована декларация, в которой Япония заявляла, что ее войска не покинут его тех пор, пока Россия не признает своей полной ответственности за гибель японцев в Николаевске и не принесет официальные извинения. Кстати, впоследствии этот эпизод – в соответствующей пропагандистской упаковке – фигурировал как «неопровержимое доказательство агрессивности русских» на многих международных конференциях, влияя на формирование и в самой Японии, и в других странах образа врага – Советской России. После овладения Красной Армией Иркутском в начале 1920 г. сложились благоприятные условия для дальнейшего продвижения советских войск на Восток.
Однако Советская Россия была не готова вести войну с Японией50 . В этой обстановке по указанию В.И.Ленина наступление было приостановлено, а на территории Дальнего Востока образовано буферное государство – Дальневосточная Республика (ДВР), имевшая регулярную Народно-революционную армию51 . Между тем, на протяжении всего 1920 г. эскалация японцев в регионе нарастала: с японских островов на континент прибывали все новые вооруженные силы. Однако после успешного наступления Народно-революционной армии ДРВ и партизанских отрядов и освобождения ими в октябре 1920 г. Читы, японцы вынуждены были покинуть Забайкалье и Хабаровск. При отступлении они угнали, затопили или привели в негодность большинство кораблей Амурской флотилии, разрушили железнодорожную ветку от Хабаровска до базы флотилии, разграбили ее мастерские, казармы, уничтожили водопровод и систему отопления, и т.д., всего нанеся ущерб на 11,5 млн золотых рублей.
Оставив Забайкалье, японские войска сосредоточились в Приморье. Боевые действия продолжались еще два года. Наконец военные успехи Народнореволюционной армии Дальневосточной Республики и партизан, с одной стороны, и ухудшение внутреннего и международного положения Японии, – с другой, все же вынудили японских интервентов в конце октября 1922 г. на кораблях своей эскадры покинуть Владивосток, что знаменовало собой окончание Гражданской войны в этом регионе. Но хотя официальной датой освобождения Владивостока и Приморья от белогвардейцев и интервентов считается 25 октября 1922 г., только через семь месяцев после установления советской власти во Владивостоке, 2 июня 1923 г. в 11 часов утра с рейда Золотого Рога снялся с якоря и ушел последний корабль интервентов – японский броненосец «Ниссин».
Но и после вывода войск Япония не оставляла свои агрессивные замыслы: в 1923 г. генеральным штабом японской армии был разработан новый план войны против СССР, которым предусматривалось «разгромить противника на Дальнем Востоке и оккупировать важные районы к востоку от озера Байкал. Основной удар нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на Приморскую область, Северный Сахалин и побережье континента. В зависимости от обстановки оккупировать и Петропавловск-Камчатский».
Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «обрат врага» в сознании армии и общества. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 288 с, илл.
23 августа (5 сентября по новому стилю) 1905 г. в Портсмуте (США) был подписан мирный договор. Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила ей южную часть Сахалина, права на Ляондунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, Южно-Маньчжурскую железную дорогу.Так завершилась русско-японская война.
Но противостояние на этом не закончилось. Япония просто выжидала благоприятного момента, чтобы отторгнуть у России Дальний Восток. Хотя на короткое время в русско-японских отношениях, казалось, возникло некоторое «потепление»: в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. Россия и Япония стали формальными союзниками. Впрочем, Япония выступила в войне на стороне Антанты с единственной целью - поживиться за счет германской сферы влияния в Китае и колоний на островах Тихого океана. После их захвата осенью 1914 г., в ходе которого японцы потеряли 2 тыс. человек, активное участие Японии в мировой войне закончилось. На обращения западных союзников с просьбой послать японский экспедиционный корпус в Европу, японское правительство отвечало, что «ее климат не подходит для японских солдат».
3 июля 1916 г. Россия заключила с Японией секретное соглашение о разделе сфер влияния в Китае, где был пункт, декларирующий военный союз между двумя странами: «В случае, если третья держава объявит войну одной из договаривающихся сторон, другая сторона по первому же требованию своего союзника должна прийти на помощь».При этом японцы намекали, что готовы пойти и на большее, если им уступят Северный Сахалин, но русское правительство отказалось даже обсуждать подобный вариант.
Что касается настроений в Русской армии, то там отношение к новому «союзнику» было вполне определенным: события русско-японской войны были еще свежи в памяти, и все понимали, что с Японией придется воевать в не слишком далеком будущем. Вот как описывал отправку Русского экспедиционного корпуса во Францию через порт Даолян Р.Я.Малиновский: «На причале построились русские войска. Тут же два оркестра - наш и японский. Сначала исполнили японский гимн, а потом «Боже царя храни». На высокой палубе в парадной форме появился командир 1-го Особого полка полковник Ничволодов. Вокруг него - группа японских офицеров и генералов. Всюду сверкали золотом эполеты и сияли ордена.
Братцы! Русские солдаты, богатыри земли русской! - начал свою речь полковник Ничволодов. - Вы должны знать, что город Дальний построен русскими людьми, они принесли сюда, на азиатские берега, русский дух, русский нрав, гуманность и культуру, чего, кстати, не скажешь о новоявленных «аборигенах» этой земли.
…Японские генералы, очевидно, не понимали смысла слов русского полковника и покровительственно скалили зубы. А тот продолжал:
Мы сейчас покидаем эти берега. Перед нами дальний путь, но мы никогда не забудем, что здесь каждый камень положен руками русских людей, и рано или поздно захватчики уберутся отсюда. Да здравствует наша победа! Ура, братцы!
Загремело громогласное «ура», перекатываясь над толпой русских солдат, сгрудившихся на пристани, на палубах и корме парохода. Все кричали «ура» что есть мочи, одобряя тем самым короткую речь русского полковника. Оркестры исполняли «Боже царя храни». Господа генералы и японские офицеры вытянулись в струнку и держали под козырек, а японские солдаты замерли по команде «Смирно» и держали «на караул». Многие из японцев, не понимая, что происходит, по команде офицеров кричали «банзай», троекратно повторяя этот клич… Можно было вообразить гнев японских генералов и офицеров, когда они получат перевод речи русского полковника.
Временный и «противоестественный» характер союза России и Японии был очевиден для русского общественного сознания, тем более что японцы не скрывали своих территориальных притязаний и готовились их реализовать при первом удобном случае.
Благоприятный для японских экспансионистских планов в отношении России момент наступил в связи с государственным переворотом в Петрограде в октябре 1917 г. Сразу же было заключено соглашение между США и Японией «по проблемам» дальневосточных владений бывшей Российской Империи. Страна Восходящего Солнца с энтузиазмом восприняла идею США и Антанты о расчленении России и создании марионеточных режимов на ее окраинах для использования их в качестве полуколоний. Японские газеты с циничной откровенностью писали, что «независимость Сибири представляла бы особый интерес для Японии», и намечали границы будущего марионеточного государства - к востоку от Байкала со столицей в Благовещенске или Хабаровске.
Предлогом для высадки японского десанта с военных кораблей, прибывших во Владивосток еще в январе 1918 г., послужил инцидент, когда в ночь на 5 апреля 1918 г. «неизвестные злоумышленники» совершили вооруженное нападение с целью ограбления владивостокского отделения японской торговой конторы «Исидо», в ходе которого были убиты два гражданина Японии.Тотчас эскадра Антанты с внешнего рейда Владивостока переместилась к причалам его внутренней гавани - бухты Золотой Рог. 5 апреля под прикрытием корабельных орудий, нацеленных на городские кварталы, высадились две роты японских пехотинцев и полурота английской морской пехоты, которые заняли важные объекты в порту и городе. 6 апреля десантировался отряд из 250 японских моряков, захвативший остров Русский с береговыми укреплениями, артиллерийскими батареями, военными складами и казармами. Адмирал Хирохару Като обратился к населению с воззванием, в котором извещал, что Япония берет на себя «охрану общественного порядка в целях обеспечения личной безопасности иностранных граждан», в первую очередь подданных японского императора.Через полгода японских подданных на российском Дальнем Востоке «защищало» уже свыше 70 тыс. японских солдат и офицеров.
Во время Гражданской войны и интервенции в 1918–1922 гг. японцы оккупировали Приамурье, Приморье, Забайкалье и Северный Сахалин, заняли Владивосток. На этих направлениях было сосредоточено более половины имевшихся тогда у Японии войск, то есть 11 дивизий из 21. Численность японских интервентов намного превосходила силы западных держав, высадившихся на Дальнем Востоке. Только с августа 1918 по октябрь 1919 г. Япония ввела на территорию дальневосточного края 120 тыс. человек, в то время, как общая численность интервентов в этом регионе в начале 1919 г. составила 150 тыс.Это объяснялось решимостью японского правительства «пойти на любые жертвы, только бы не опоздать к дележу территории России, которое произойдет после вмешательства США, Англии и Франции».Именно японцы стали ударной силой интервентов на Дальнем Востоке. И если англо-американские и другие силы Антанты совместно с Японией участвовали в интервенции в период с 1918 по март 1920 г., после чего были выведены с советских территорий, то сама Япония сохраняла там свое присутствие дольше всех - до осени 1922 г. Таким образом, период с апреля 1920 по октябрь 1922 г. был полностью самостоятельным японским этапом интервенции.Как позднее напомнит об этом факте И.В.Сталин, «Япония, воспользовавшись враждебным тогда отношением к Советской стране Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, - вновь напала на нашу страну… и четыре года терзала наш народ, грабила Советский Дальний Восток».
Японцы поддерживали Белое движение на Дальнем Востоке и в Сибири, стараясь при этом сохранять выгодную для них расстановку сил: активно помогали атаману Забайкальского казачьего войска Г.М.Семенову и даже спровоцировали его конфликт с адмиралом А.В.Колчаком, посчитав, что деятельность последнего на посту Верховного правителя России может повредить дальневосточным интересам Страны Восходящего Солнца. Интересно в этой связи мнение самого Колчака об интервентах. 14 октября 1919 г. генерал Болдырев записал в своем дневнике о встрече с адмиралом: «Среди многих посетителей был адмирал Колчак, только что прибывший с Дальнего Востока, который, кстати сказать, он считает потерянным если не навсегда, то, по крайней мере, очень надолго. По мнению адмирала, на Дальнем Востоке две коалиции: англо-французская - доброжелательная и японо-американская - враждебная, причем притязания Америки весьма крупные, а Япония не брезгует ничем. Одним словом, экономического завоевание Дальнего Востока идет полным темпом».
За время своего хозяйничанья на Дальнем Востоке японцы вывезли немало пушнины, древесины, рыбы, ценностей, захваченных на складах порта Владивосток и других городов. Поживились они и за счет золотого запаса России, захваченного в Казани мятежным Чехословацким корпусом, а затем оказавшегося в распоряжении правительства Колчака, которое расплачивалось им со странами Антанты за поставку оружия и снаряжения. Так, на долю Японии пришлось 2672 пуда золота.
Присутствие японского экспедиционного корпуса подогревало накал Гражданской войны и рост партизанского движения на Дальнем Востоке. Бесцеремонное и наглое поведение захватчиков возбуждало ненависть и озлобление местного населения. Красные партизаны Приамурья и Приморья устраивали засады и нападения на вражеские гарнизоны.
Упорное сопротивление местных жителей интервентам привело к жестоким карательным акциям со стороны японских войск, пытавшихся такими мерами утверждать свое господство на оккупированной территории: сожжение за «неповиновение» целых деревень и показательные массовые расстрелы непокорных с целью запугивания местного населения вошли в повсеместную практику. Например, в январе 1919 г. японские солдаты дотла сожгли деревню Сохатино, а в феврале деревню Ивановку. Вот как описывал эту акцию репортер японской газеты «Урадзио ниппо» Ямаути: «Деревню Ивановка окружили. 60–70 дворов, из которых она состояла, были полностью сожжены, а ее жители, включая женщин и детей (всего 300 человек) - схвачены. Некоторые пытались укрыться в своих домах. И тогда эти дома поджигались вместе с находившимися в них людьми».То, что действовали японцы с особой жестокостью, отмечали даже их союзники-американцы. Так, в донесении одного американского офицера описывается казнь арестованных местных жителей, схваченных японским отрядом 27 июля 1919 г. на железнодорожной станции Свиагино, охранявшейся американцами: «Пятеро русских были приведены к могилам, вырытым в окрестностях железнодорожной станции; им были завязаны глаза и приказано встать на колени у края могилы со связанными назад руками. Два японских офицера, сняв верхнюю одежду и обнажив сабли, начали рубить жертвы, направляя удары сзади шеи, и, в то время как каждая из жертв падала в могилу, от трех до пяти японских солдат добивали ее штыками, испуская крики радости. Двое были сразу обезглавлены ударами сабель; остальные были, по-видимому живы, так как наброшенная на них земля шевелилась».
В феврале-марте 1920 г. все войска интервентов, кроме японских, покинули Владивосток, передав «представительство и охрану интересов союзников» на русском Дальнем Востоке и в Забайкалье Стране Восходящего Солнца. При этом Япония формально заявила о своем «нейтралитете». Однако в начале апреля японцы начали карательные действия против населения Владивостока и других городов, произвели нападения на революционные войска и организации Приморья. В качестве повода был использован так называемый Николаевский инцидент в марте 1920 г., во время которого в городе Николаевске-на-Амуре партизаны под командование анархиста Я.И.Тряпицина, расстрелянного вскоре по приговору народного суда, уничтожили более 850 захваченных в плен японских военнослужащих и гражданских лиц.Воспользовавшись этим, 31 марта 1920 г. японское правительство отказалось от эвакуации своих войск, которые 4–5 апреля внезапно нарушили договоренность о перемирии и приступили к «акции возмездия», в результате которой за несколько дней уничтожили во Владивостоке, Спасске, Никольске-Уссурийском и окрестных селениях около 7 тыс. человек.Сохранились фотографии японских интервентов, «с улыбками позирующих рядом с отрезанными головами и замученными телами русских людей».
В продолжение «акции» и под предлогом защиты служащих японской нефтяной компании «Хокусинкай» японские войска в июне 1920 г. оккупировали Северный Сахалин. 3 июля была опубликована декларация, в которой Япония заявляла, что ее войска не покинут его тех пор, пока Россия не признает своей полной ответственности за гибель японцев в Николаевске и не принесет официальные извинения.Кстати, впоследствии этот эпизод - в соответствующей пропагандистской упаковке - фигурировал как «неопровержимое доказательство агрессивности русских» на многих международных конференциях, влияя на формирование и в самой Японии, и в других странах образа врага - Советской России.
После овладения Красной Армией Иркутском в начале 1920 г. сложились благоприятные условия для дальнейшего продвижения советских войск на Восток. Однако Советская Россия была не готова вести войну с Японией.В этой обстановке по указанию В.И.Ленина наступление было приостановлено, а на территории Дальнего Востока образовано буферное государство - Дальневосточная Республика (ДВР), имевшая регулярную Народно-революционную армию.
Между тем, на протяжении всего 1920 г. эскалация японцев в регионе нарастала: с японских островов на континент прибывали все новые вооруженные силы. Однако после успешного наступления Народно-революционной армии ДРВ и партизанских отрядов и освобождения ими в октябре 1920 г. Читы, японцы вынуждены были покинуть Забайкалье и Хабаровск. При отступлении они угнали, затопили или привели в негодность большинство кораблей Амурской флотилии, разрушили железнодорожную ветку от Хабаровска до базы флотилии, разграбили ее мастерские, казармы, уничтожили водопровод и систему отопления, и т. д., всего нанеся ущерб на 11,5 млн золотых рублей.
Оставив Забайкалье, японские войска сосредоточились в Приморье. Боевые действия продолжались еще два года. Наконец военные успехи Народно-революционной армии Дальневосточной Республики и партизан, с одной стороны, и ухудшение внутреннего и международного положения Японии, - с другой, все же вынудили японских интервентов в конце октября 1922 г. на кораблях своей эскадры покинуть Владивосток, что знаменовало собой окончание Гражданской войны в этом регионе. Но хотя официальной датой освобождения Владивостока и Приморья от белогвардейцев и интервентов считается 25 октября 1922 г., только через семь месяцев после установления советской власти во Владивостоке, 2 июня 1923 г. в 11 часов утра с рейда Золотого Рога снялся с якоря и ушел последний корабль интервентов - японский броненосец «Ниссин».
Но и после вывода войск Япония не оставляла свои агрессивные замыслы: в 1923 г. генеральным штабом японской армии был разработан новый план войны против СССР, которым предусматривалось «разгромить противника на Дальнем Востоке и оккупировать важные районы к востоку от озера Байкал. Основной удар нанести по Северной Маньчжурии. Наступать на Приморскую область, Северный Сахалин и побережье континента. В зависимости от обстановки оккупировать и Петропавловск-Камчатский».
Не повезло России на Дальнем Востоке. Судьба послала ей на тихоокеанском побережье крайне неуживчивого и агрессивного соседа - Японию, чьи правящие круги в течение ряда минувших десятилетий то и дело посягали на российские национальные интересы. Примерами тому стало нападение на Россию в январе 1904 года, приведшее к русско-японской войне и отторжению от нашей страны Южного Сахалина. В еще большей мере агрессивные устремления японских правящих кругов проявились в годы широкомасштабного вооруженного вторжения Японии в пределы России, продолжавшегося с 1918 по 1925 годы. Те же захватнические поползновения проявились и в многократных бесцеремонных нарушениях советских территориальных вод японскими военными кораблями и рыболовными флотилиями в 20-30-х годах. А чего стоили вооруженные провокации японской военщины против нашей страны в районе озера Хасан и у реки Халхингол, завершившиеся бесславно лишь потому, что встретили решительный отпор советских вооруженных сил. Не пошел на пользу некоторым политическим деятелям и разгром японского милитаризма в 1945 году. Ведь до сих пор в политическом мире Японии имеется немало влиятельных поборников территориальных притязаний к России, одни из которых зарятся на четыре южных острова Курильского архипелага, другие - на весь архипелаг, а третьи, и на Южный Сахалин.
Перечисляя все эти агрессивные деяния и помыслы правящих кругов Японии против нашей страны, следует, правда, помнить и то, что подобная же агрессивность Японии проявлялась и в отношении других стран-соседей. В 1910 году японцы аннексировали Корею, жестоко подавив вооруженной силой сопротивление ее народа. В 1931–1945 годах японские армии захватили едва ли не большую часть китайской территории.
В 1941 году объектом японских атак и захватов стали тихоокеанские владения США и Англии, а также все страны Юго-Восточной Азии. Да и в наши дни продолжают тлеть очаги территориальных споров Японии с Республикой Корея из-за островов Токто (Такэсима) и с КНР из-за островов Сэнкаку. Видимо, жадное стремление поживиться за счет соседних стран так глубоко укоренилось в сознании некоторых японских государственных деятелей, что даже 50 лет, прошедшие со времени военного разгрома милитаристской Японии, не смогли до конца изжить подобные помыслы, что не способствует, естественно, упрочению мира в бассейне Тихого океана.
В числе захватнических акций Японии, предпринимавшихся в прошлом против нашей страны, наименьшее освещение, как в отечественной, так и в японской литературе, получила в последние годы вооруженная интервенция Японии в Сибири, Забайкалье, Приамурье, Приморье и на Северном Сахалине, продолжавшаяся в общей сложности более семи лет. Трудно сказать, почему отечественные историки и японоведы не уделяют должного внимания этой теме: скорее всего из ложно понимаемого ими стремления не ворошить прошлого во имя улучшения нынешних связей с Японией. Ведь некоторым из наших историков и журналистов и теперь кажется, что закрывая глаза на самые мрачные страницы в истории взаимоотношений двух стран они оказывают некую услугу делу упрочения российско-японского добрососедства.
Что же касается освещения интервенции Японии в России в книгах японских историков, то за редким исключением авторам этих книг чужда объективность, что объясняется прежде всего их заботой о “доброй репутации” своей страны и связанным с этим стремлением оставить общественность в неведении о тех преступлениях, которые учиняла японская военщина на оккупированных ею российских территориях. Лишь очень немногие из японских ученых проявили научную честность в этом вопросе и нашли в себе мужество признать захватнический, агрессивный характер японской интервенции в России и дать в своих трудах правдивое описание всего того, что творила японская армия в ходе своего сибирского ограниченную по времени “экспедицию”, предпринятую с благородной целью выполнения некого “союзнического долга” перед странами Атланты, а также с целью охраны проживавших во Владивостоке и некоторых других городах японских граждан, которым в действительности тогда никто не угрожал. Примечательно, что и авторы японских школьных учебников истории предпочитают, как правило, умалчивать об агрессии Японии против Советской России, хотя эта агрессия и длилась почти семь лет. Вот почему сегодня у подавляющего большинства японских граждан и в особенности у людей молодого возраста отсутствует правдивое представление о том, какие задачи ставились руководителями “миротворческой экспедиции” Японии в Сибири и других районах русского Дальнего Востока и чем занималась японская военщина в те дни на территории нашей страны. Слишком мало знает об этом даже японская научная общественность.
В действительности же вооруженная интервенция Японии на российском Дальнем Востоке представляла собой не что иное как необъявленную завоевательную войну, развязанную с целью овладения Приморьем, Забайкальем, Приамурьем и Восточной Сибирью, с целью превращения всех этих громадных территорий в японскую колонию. К сожалению, большинство историков и публицистов не хотят этого признавать. Но есть все-таки и в Японии сторонники правдивых оценок истории. “В последнее время, особенно среди молодых ученых, - пишет Осаму Такахаси - автор книги “Дневник Сибирской экспедиции”, - появились люди, выступающие за то, чтобы сменить слова “сибирская экспедиция” на “сибирская война”. Я также с этим полностью согласен. Однако число таких ученых в Японии пока еще очень мало”.
Война Японии в России была начата в соответствии с секретным планом японского военного министерства, разработанным еще в начале 1918 года специально созданным комитетом во главе с военным министром генералом Гиити Танакой.
Высылка солдат японского экспедиционного корпуса во Владивостокском порту (апрель 1918 года)
 Марш японских интервентов по улицам Владивостока (апрель 1918 года)
Марш японских интервентов по улицам Владивостока (апрель 1918 года)
Война эта носила широкие масштабы: в ней приняло участие в общей сложности 11 японских дивизий, контингент которых включал более 70 тысяч офицеров и солдат. В ходе интервенции японские оккупанты совершили на российской территории несчетное число преступлений. Мало наших соотечественников и тем более японцев знает о том, сколько сотен, сколько тысяч русских людей было расстреляно японскими офицерами и солдатами, беззаконно вторгшимися на нашу землю и творившими там жестокие расправы над местным населением. Примеры тому приводятся в трудах отечественных историков. Пишут об этом также и честные японские ученые. Так в японской исторической литературе подробное освещение получила учиненная интервентами в Приамурье в деревнях Мажаново и Сохатино массовая кровавая расправа с жителями этих деревень, не пожелавшими далее терпеть бесчинства японской военщины и поднявшими мятеж против своих угнетателей. Прибывший в эти деревни 11 января 1919 года карательный отряд по приказу своего командира - капитана Маэда расстрелял всех находившихся в этих деревнях жителей, включая женщин и детей, а сами деревни были сожжены дотла. Признавало впоследствии без всякого стеснения этот факт и само командование японской армии. В “Истории экспедиции в Сибири в 1917–1922 годах”, составленной Генеральным штабом японской армии, писалось, что “в наказание дома жителей этих деревень, поддержавших связь с большевиками, были сожжены”.
И это был не единичный случай. В марте 1919 года командующий 12 бригадой японской оккупационной армии в Приамурье генерал-майор Сиро Ямада издал приказ об уничтожении всех тех сел и деревень, жители которых поддерживали связь с партизанами. Во исполнение этого приказа, как подтверждают японские историки, в марте 1919 года были подвергнуты “чистке” следующие села и деревни Приамурской области: Круглое, Разливка, Черновская, Красный яр, Павловка, Андреевка, Васильевка, Ивановка и Рождественская.
Ао том, что творили в этих деревнях и селах в ходе чистки японские оккупанты, можно судить по приведенным ниже сведениям о зверствах японских карателей в селе Ивановке. Село это, как сообщается в японских источниках, было неожиданно для его жителей окружено японскими карателями 22 марта 1919 года. Сначала японская артиллерия обрушила на село шквальный огонь, в результате чего в ряде домов начались пожары. Затем, на улицы, где метались с плачем и криками женщины и дети, ворвались японские солдаты. Сначала каратели выискивали мужчин и там же на улицах расстреливали их или закалывали штыками. А далее оставшиеся живыми были заперты в нескольких амбарах и сараях и сожжены заживо. Как показало проведенное впоследствии расследование, после этой резни было опознано и захоронено в могилах 216 жителей села, но кроме этого большое число обуглившихся в огне пожаров трупов так и осталось неопознанными. Сгорело дотла в общей сложности 130 домов. Ссылаясь на изданную под редакцией Генерального штаба Японии “Историю экспедиции в Сибири в 1917–1922 годах” японский исследователь Тэруюки Хара писал по тому же поводу следующее: “из всех случаев “полной ликвидации деревень” наиболее крупным по своим масштабам и наиболее жестоким стало сожжение деревни Ивановки. В официальной истории об этом сожжении пишется, что это было точное исполнение приказа командира бригады Ямады, звучавшего так: “приказываю предельно последовательно наказать эту деревню”. А о том, как это наказание выглядело в реальной действительности, говорилось в нарочито туманной форме: “Спустя некоторое время пожары возникли во всех концах деревни”.
Зверские расправы с жителями Ивановки, как и других сел, должны были по замыслу японских интервентов посеять страх среди населения оккупированных ими районов Советской России и таким образом заставить русских людей прекратить всякое сопротивление непрошенным гостям из “Страны восходящего солнца”. В заявлении, опубликованном на следующий день в местной печати генерал-майором Ямадой без обиняков писалось о том, что всех “врагов Японии” из числа местного населения “постигнет та же участь, что и жителей Идановки”.
 Японские солдаты около расстрелянных ими жителей Дальнего Востока
Японские солдаты около расстрелянных ими жителей Дальнего Востока
Однако даже в японской исторической литературе имеется немало публикаций, в которых признается несостоятельность карательных операций японской армии в Сибири и Забайкалье, порождавших среди русского населения этих районов массовые антияпонские настроения и еще большее сопротивление произволу интервентов.
Как отмечается в “Истории гражданской войны в СССР” (Том 4, стр. 6), японские интервенты разграбили в общей сложности 5775 крестьянских хозяйств и сожгли дотла 16717 построек.
Чувствительные потери в этой преступной войне понесла, кстати сказать, и сама японская армия. По данным японских историков, в сражениях с защитниками независимости нашей страны погибли в дни японской интервенции более 3 тысяч японских солдат и офицеров.
Но это еще не все. В ходе оккупации Восточной Сибири и ряда районов российского Дальнего Востока японские интервенты занимались беззастенчивым грабежом природных богатств, а также имущества, принадлежавшего местному населению. На военных кораблях и гражданских судах без стеснения увозились в Японию самые разнообразные материальные ценности, попадавшиеся интервентам под руку, будьте частная или государственная российская собственность. Так за годы интервенции из континентальных районов России в Японию было вывезено более 650 тысяч кубометров леса, были угнаны в Маньчжурию свыше 2 тысяч железнодорожных вагонов и более 300 морских и речных судов. Из Приморья и Сахалина в Японию вывозился в те годы фактически весь улов лососевых и до 75 процентов улова сельди, что причинило России огромные убытки в размере 4,5 миллионов рублей золотом. И это далеко не полный перечень российских богатств, незаконно присвоенных, японскими оккупантами в годы интервенции в России.
Преступное содействие японским оккупантам оказали в разграблении российских богатств некоторые из белогвардейских генералов и офицеров, рассчитывавших с помощью Японии удержать в своих руках те или иные территории. Одни из них, руководствовались при этом сугубо корыстными устремлениями, другие - заведомо ошибочными политическими расчетами. Но все они, как показал ход событий, вольно или невольно причинили тяжкий ущерб национальным интересам России.
Одним из самых крупных покушений на национальную собственность нашей страны стало в годы японской оккупации похищение интервентами при содействии их сообщников-белогвардейцев значительной части государственного золотого запаса России - похищение, обстоятельства и следы которого до сих пор скрывались и замалчивались японской стороной.






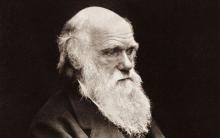




Бертрис смолл - бьянка, благочестивая невеста
Сознание дзен, сознание начинающего
Белгравия автор джулиан феллоуз
Афанасий Никитин «Хождение за три моря Хождение за три моря афанасия никитина
Воспоминания о плене Из послевоенных записей0